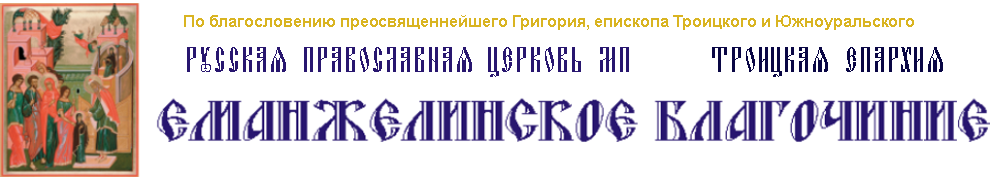Предвижу (при упоминании о «кайфе») раздражение некоторых читателей. Оно мне понятно. Не только раздражение, недоумение, но и активный протест. Тех, кто не приемлет замусоренность современного печатного и разговорного языка, да и жизни в целом, иностранщиной, сленгом, примитивизмом и матерщиной. Тех, кого, мягко говоря, удивляет косноязычие наших видных «деятелей». Наконец, тех, чьи судьбы трагически переплетены с судьбами алкоголиков, наркоманов, токсикоманов, «подсевших» на лекарства и прочих недужных, зависимых, одержимых страстями (оставим в стороне вопросы подходов к проблеме и терминологии). Для родных и близких алкоголика, сытых по горло его непредсказуемостью и стремлением к единственной цели — напиться, вся эта терминология: «кайф», «отходняк», «опохмелка» и прочее, — вряд ли вызовет сочувственный интерес. Скорее, нервную дрожь и уж как минимум — тяжелый вздох.
Предвижу (при упоминании о «кайфе») раздражение некоторых читателей. Оно мне понятно. Не только раздражение, недоумение, но и активный протест. Тех, кто не приемлет замусоренность современного печатного и разговорного языка, да и жизни в целом, иностранщиной, сленгом, примитивизмом и матерщиной. Тех, кого, мягко говоря, удивляет косноязычие наших видных «деятелей». Наконец, тех, чьи судьбы трагически переплетены с судьбами алкоголиков, наркоманов, токсикоманов, «подсевших» на лекарства и прочих недужных, зависимых, одержимых страстями (оставим в стороне вопросы подходов к проблеме и терминологии). Для родных и близких алкоголика, сытых по горло его непредсказуемостью и стремлением к единственной цели — напиться, вся эта терминология: «кайф», «отходняк», «опохмелка» и прочее, — вряд ли вызовет сочувственный интерес. Скорее, нервную дрожь и уж как минимум — тяжелый вздох.
Насмотрелись они на этот пресловутый «кайф». Слово-то больно смачное, даже с волнующим оттенком богемности. А на самом деле? Лихорадочный блеск в глазах, возбуждение, порывистые движения, неадекватное поведение, беспричинное истеричное веселье, самоуверенность, самодовольство, хвастовство, бесшабашность, слюнявое или слезливое братание, сентиментальность, громкая горячая болтливость, дешевая театральность, умствование, «философствование», «воспарения», экзальтация, бесцеремонность, бестактность, бесстыдство… Или, наоборот, сосредоточенная отрешенность, отстраненность, отключенность, отсутствующий взгляд, бессмысленная улыбка, неподвижность, расслабленность… Стоит ли продолжать? Проявления кайфа многообразны и для постороннего наблюдателя, не вовлеченного в «действо», по большей части — непонятны, иногда неприемлемы, порой омерзительны.
И уж тем более чужды тем, кто выстраивает свою жизнь не по рекламным рекомендациям безумного окружающего мира, а стремится жить по заповедям Божиим. Иной смысл, иные ориентиры, иная устремленность. Иные определения и иной язык. Но, увы, без препарирования кайфа (а синонимов этого слова — емкого и лаконичного — не существует) не обойтись. Иначе не понять ни алкоголизма, ни наркомании, ни прочих, подобных им, «ярких» зависимостей. Не понять, как ни странно, и многого другого из того, что составляет суть и содержание современного больного мира и заплутавшего в нем человека.
Оставляя за богословием вопрос о том, в пред-апокалиптические или иные времена мы живем, необходимо отметить ряд важных моментов (никоим образом не забывая ни об алкоголизме, ни об избавлении от него).
В начале этой главы я использовал одно за другим понятные мне определения: «рекламные рекомендации безумного окружающего мира», «современный больной мир и заплутавший в нем человек». Использовал, не питая иллюзий, что эти определения понятны всем. Для меня, близких мне по духу, для значительной части православных — безусловно. А для большинства моих знакомых, с которыми приходится пересекаться на жизненном пути? Особенно тех, кто хорошо «упакован» в этом мире? Кто «пользуется его благами», «радуется жизни», «крутится как белка в колесе»? «Зарабатывает деньги», вольно или невольно вовлечен в «активную жизнь» с ее бесчисленными заботами (или этими заботами задавлен), кому недосуг или не по нутру анализировать, вглядываться в мир, жизнь и себя самого? Кому достаточно так называемого «собственного жизненного опыта», замешанного, по сути (замкнутый круг), на представлениях все того же окружающего мира?
Все люди — разные. Конечно, можно снисходительно улыбнуться: «Ну и открытие! Разные, кто ж этого не знает!» Действительно, знают все. Или почти все. Но каждый по-своему. И, как у каждого знания, у этого тоже свои глубины, свой широкий диапазон уровней и степеней восприятия: от поверхностного, никак не влияющего на поведение и жизнь, до осознанного, укоренившегося, автоматически ими управляющего. И какое же восприятие преобладает в современном мире? Ответ кажется очевидным. Иначе откуда все эти «споры до хрипоты», порой изначально бестолковые в стремлении непременно что-то доказать, «донести», «открыть глаза»? Откуда взаимные обиды, вплоть до вражды и оскорблений при разногласиях (часто по пустякам)? Откуда нетерпимость и непримиримость при разномыслии, болезненное стремление «настоять на своем»,
осуждение, «праведный» гнев? И все это — сплошь и рядом, притом не только между людьми, друг от друга далекими, заведомо «разными», но и между близкими, входящими в круг непосредственного общения, каждодневных забот, переживаний. Ну, кого нынче удивят стоны и жалобы родителей на детей, жен на мужей… Да между близкими-то порой отношения самые сложные: от неприятия привычек, манеры поведения, образа жизни, характера, мировоззрения, то есть фактически — неприятия иной жизни и судьбы (и вследствие этого — назойливого стремления «воспитывать», «помогать», руководить) до деструктивной вовлеченности в чужую жизнь, невозможности эмоционального дистанцирования от нее, созависимости и забвения жизни собственной. Сколько же муки, страданий, слез, трагедий во взаимоотношениях людей! Борьбы! Вражды! Непонимания! Обид! Неиссякающий источник сюжетов светской литературы последних веков, но, главное, — один из основных источников боли современного человека. И соответственно — многих и многих бед: от расшатанной нервной системы, хронической напряженности, стрессов, заболеваний до неизбывного чувства одиночества, тоски, страха, катастрофических столкновений с другими людьми, разочарования в жизни, отчаяния. И попыток ухода от напряженности и запутанности жизни, в том числе и мучительности человеческих отношений, различными способами, среди которых отнюдь не единственный — употребление алкоголя и других веществ, изменяющих сознание.
Идеалы и обреченность
Два определяющих фактора действуют во взаимоотношениях людей. С одной стороны, исконная тяга к себе подобным, поиск «родственных душ», стремление к единению (сопереживанию, сочувствию, сотрудничеству), некая заложенная в природе человека надежда на возможность Дружбы, Любви, Братства, семейной Гармонии, государственной или национальной монолитности. С другой, — роковое взаимоотторжение различных индивидуальностей, часто не осознаваемое и неконтролируемое. Разъедающее надежды и упования, подменяющее «идеальные» понятия так называемыми «реальными», а попросту понятия истинные — суррогатами. Истинные — от Бога, для неверующих в Бога — от Природы, главное, что стремление к идеальному изначально свойственно человеку. Поэтому и обнаруживает себя так явно особенно в незрелых детских и юношеских душах, душах незамутненных, не успевших задубеть от бесчисленных столкновений с действительностью. Отсюда и лицевые, и оборотные стороны юношеского идеализма: особенная острота, болезненность и драматизм переживаний и разочарований, романтизм во всех видах, самоотдача в дружбе и любви, стремление к свободе, независимости, подспудное осознание собственной уникальности, протестное поведение, неприятие мира взрослых с его «жизненным опытом», «разумностью», предостережениями, осторожностью и страхом, сухой регламентацией и иерархическими связями, обязанностями, скукой. Отсюда и… беззащитность! Без знания о Творце всего сущего, в том числе и идеалов в человеческой душе, — беззащитность перед обманками и ловушками (естественно, сладкими) все того же мира, его затягивающей и перемалывающей силой, его путями наименьшего сопротивления, подменой понятий, мифо- и кумиротворчеством.
А куда ж деваются идеалы, откуда и как произрастает взаимоотторжение? Идеалы — неуничтожимы! Загоняются жизненным опытом на дно души, но нет-нет, да и прорываются из-под многослойных завалов этого опыта. То необъяснимыми тревожными мечтами, то сентиментальной слезой перед телевизором или в торжественных душещипательных ситуациях, то неожиданно вспыхнувшей жалостью к бездомным (особенно животным), неловким стыдливым подаянием нищему, чувством сопричастности при бедах, катастрофах, природных катаклизмах. Прорываются и благотворительностью, и спонтанным бескорыстием, и доверчивостью, и дорожной откровенностью с совершенно незнакомым человеком, ностальгией по ушедшим временам. Потребностью в «справедливости», «правде», «уважении к старшим», «обидой за державу». Обостренным порой чувством бессмысленности, суетности и пустоты собственной жизни, извечной, вопреки здравому смыслу, надеждой на светлую будущность детей или хотя бы внуков…
Идеалы — неуничтожимы, но отступают в душах людей под напором могучих внешних и внутренних сил. Процесс неизбежный, его печальный результат для современного человека, не только привязанного к миру, черпающего лишь из него, да из своего житейского опыта вдохновение, силу, смысл и «мудрость», но и стремящегося покомфортнее устроиться в нем, — заведомо предсказуем. Человек проигрывает, проигрыш — в том слиянии с миром, к которому подспудно или осознанно стремится человек.
Да и замечают ли это люди, тем более предвидят ли, вступая в мир, возможность проигрыша, поражения? Ведь человеку свойственно обустраиваться в окружающем пространстве — будь то уголок с кроватью и тумбочкой в общежитии, своя комната, дом или целый мир. Свойственно и стремление к удобствам, красивым и, главное, — собственным вещам, вещицам, всевозможным игрушкам, к так называемым материальным благам. Земным благам! А сколько их, особенно в наше время!
Похоже, вся мировая экономика только тем и занята, чтобы разрабатывать и производить все новые и новые «блага». Новые продукты питания, одежду, бытовую технику, спортинвентарь, средства передвижения, средства информации и связи, косметику, всё новые развлечения, виды отдыха, «игрищ и забав». Всё новые игрушки для взрослых: от автомобилей, мобильных телефонов, компьютеров до самолетов и космического туризма. Тысячи тысяч новых товаров ежегодно! На любой вкус, на любой кошелек. Товаров и услуг! Для тела, для мозга и… для «души». Для времяпрепровождения. От рождения до смерти! Сколько всевозможных «индустрий»: от продуктов питания, промышленных товаров, средств коммуникации до «индустрии» отдыха и развлечений, — безостановочно функционируют, сколько миллионов людей задействовано, какие природные ресурсы безжалостно уничтожаются, вдобавок захламляется и отравляется сама среда обитания человека! И для чего? Чтобы вывести человечество и человека на некий «новый этап развития»? Или — «удовлетворить» разнообразные «потребности», ублажить?!
И многие ли смогут отказаться хотя бы от части предлагаемого «прогрессом» многообразия «благ цивилизации»? От новой стиральной машины, нового автомобиля, телевизора, телефона?.. Главное, отказаться не в силу объективных обстоятельств (например, — «не по карману»), а осознанно, внутренне, на уровне мечтаний и устремлений. Вдобавок, вопреки множеству «подталкивающих» факторов: от призывной карнавальной круговерти изменчивых внешних атрибутов мира, открытой и завуалированной рекламы, раздражающего «благополучия» соседей, сослуживцев, родственников, знакомых, инстинктивного чувства стадности и нежелания выпадать из окружения до несомненного удобства и «полезности» немалой части «достижений цивилизации». Таким образом, «естественное» стремление человека обустраиваться в мире перерастает в страсть, в ненасытную жажду обладания его многочисленными благами. Жажду всепоглощающую и неутолимую! Закономерно перерастающую в жажду денег и богатства как потенциальной возможности обладания любыми видами «благ». И, соответственно, — мерилу всех земных ценностей вплоть до ценности человеческой жизни.
Удручающая обреченность! Но отнюдь не единственная. Подкрепляемая неведением и склонностью к самообману. И есть ли предел потребительских вожделений? Когда-то этот вопрос, правда, в иной форме, более мягкой и завуалированной, прозвучал на одной из лекций для предпринимателей в совместном русско-американском бизнес-круизе, участником которого и мне довелось стать. Ведущий, американский бизнесмен, организатор круиза, обратился к аудитории с вопросом: «Какие цели вы ставите перед собой, сколько хотите заработать, начиная свое дело, какой предел ваших мечтаний?» Конечно, в конференц-зале теплохода собрались не олигархи, но и не зеленые новички. Люди толковые, нацеленные на зарабатывание денег, многие из которых уже «понюхали пороха» и твердо стояли на ногах. Но каких только ответов не довелось услышать! (Может быть, потому, что тогда наш «родной» капитализм еще не развернулся во всей «красе»?) Точку поставил самый «толковый», выведя мечты из убогой приземленности в заоблачные выси, чем заслужил одобрение ведущего и других «борцов за денежные знаки»: «Да нет никаких пределов!»
К сожалению, так и есть. Начинается с мечтаний о стандартном наборе: «хорошие» квартира, машина, дача, а заканчивается апартаментами в элитном доме, «престижными» иномарками, особняком в (коттеджном поселке, отдыхом на Канарах, а еще лучше — своей виллой в Испании. Начинается с попыток обрести «независимость», сбросить путы бытовых и вообще жизненных проблем, кончается вовлеченностью в бесчисленные беспокойства, заботы, обязанности, хлопоты, неприятности, опасности, вовлеченностью в бесконечную, безостановочную, напряженную суету, гонку. И в еще большие проблемы, неведомые наивному обывателю, завистливым оком провожающему очередной сверкающий лимузин. Эти суета, гонка, многозаботливость и каторжная напряженность жизни — еще одна обреченность современного человека. Безмерно отягощенная неутолимостью и беспредельностью любых мечтаний и вожделений. Отсюда — хроническая червоточина внутреннего беспокойства и дисгармонии. И это — не последняя обреченность.
Ведь человек живет не в пустыне, а среди людей. И ему свойственно самоутверждаться и самовыражаться. А где как не среди людей проявиться этим свойствам? Где найти подтверждение уникальности собственной личности, «исключительности» своих способностей, ума, силы, стойкости, где почерпнуть уверенность в своей состоятельности, чем подогреть самоуважение? И где, кстати, найти критерии собственной ценности, если внутренние критерии отсутствуют или заглушены? Все в том же окружающем мире, среди людей. И трансформируется естественное стремление к самоутверждению и самовыражению не только в творчество, мастерство, профессионализм, но, увы, и в желание непременно быть главным: в семье, на работе, в желание выделиться, быть оригинальным. В погоню за «признанием», известностью, славой, наградами, титулами, чинами. В стремление к уважению, вниманию, повиновению, любви окружающих. А если учесть, что «главенство» не только греет самолюбие, но и дает преимущества в обладании материальными благами, — в стремление к власти… Власть и деньги, деньги и власть — хрестоматийно известные близнецы-маяки человеческих устремлений.
Но трагедия-то в том, что люди, такие разные-разные, порой вплоть до невозможности какого-либо взаимопонимания, как назло удивительно схожи как раз в несочетающихся интересах. Их столь «естественные» и понятные стремления к материальным благам и главенству мало того, что непременно сопряжены с необходимыми усилиями, хлопотами и заботами, но с удручающей закономерностью приводят к столкновению с точно такими же интересами других людей. И какие же качества вырабатываются в подобных столкновениях в борьбе за собственные интересы? И какие, кстати, культивируются окружающим миром? Честность, правдивость, порядочность, открытость, доброжелательность? Или лживость, скрытность, хитрость, изворотливость, лицемерие, беспринципность, подозрительность, настороженность, враждебность? Великодушие, снисходительность, уступчивость, сочувствие, стремление понять, помочь, поддержать, простить, вместе порадоваться удаче? Или мелочность, злопамятность, мстительность, злорадство, безжалостность, непримиримость, завистливость, бесчувственность, равнодушие? Быть может, целомудрие, скромность, деликатность, умеренность, неприхотливость, непритязательность? Или хвастовство, чванство, надменность, тщеславие, высокомерие, нахальство, недовольство, изнеженность, развращенность, цинизм, алчность? Бескорыстие и щедрость или жадность и корыстолюбие? Уважение к ближнему, внутренняя ответственность за него и за себя, самокритика, отзывчивость, сострадание, милосердие и любовь? Или нетерпимость, наплевательство, злословие, осуждение, себялюбие, жестокость, ненависть, эгоизм?
Ответы — на поверхности, в окружающем мире, утверждающем крайний индивидуализм. И с чем же связан идеал личности, давно сформированный в западном мире, а ныне активно формирующийся и у нас? С нарочитой индивидуальной неповторимостью, не ограниченной никакими «условностями», «крутостью», самостийностью, переходящими в самовозвеличивание. С силой вообще, с сильной волей и сильным характером, в частности. В достижении поставленной цели (ну, естественно, не всеобщего блага, а своекорыстных интересов), в напористом преодолении любых помех и препятствий. С рассудочностью, цепким, чуждым «сантиментов» умом (в идеале работающим, как компьютер), интуицией, звериным чутьем. Со стойкостью, живучестью, повышенной приспособляемостью, адаптацией. С «независимостью», опорой на «собственную систему ценностей». Наконец, с «организаторскими способностями», направленными на служение людям или общему делу? Нет. Понимаемым иначе — как умение использовать людей, искусно ими манипулируя для достижения собственных целей.
Да при таком-то наборе, со всеми этими «устремлениями» и «идеалами», как не возникнуть взаимоотторжению людей! Подкрепляемому упомянутыми выше подменой понятий, наполнением их иным смыслом, заменой истинных понятий понятиями-суррогатами.
Во-первых, подменяется понятие «личности». Само слово-то в большом ходу, да только применяется для обозначения не личности, а индивида. Именно личности присуще стремление к самопознанию, развитию и, главное, — способность сознавать свое несовершенство, свою вину, свои недостатки и грехи, способность к смирению и покаянию, склонность переделывать, преображать в первую очередь себя самого. Для индивида, отгороженного от себя и других непомерной гордыней, свойственно априорное преувеличение своих достоинств, хроническое ощущение своей «правоты», высокомерное пренебрежение «самокопанием», тем более «самобичеванием», неведение собственных изъянов и самооправдание, но повышенное осуждающее внимание к чужим недостаткам, поиск вины за собственные беды не внутри себя, а вовне и, соответственно, — стремление к критике, перевоспитыванию окружающих, изменению внешних обстоятельств жизни и переустройству мира. Личность, наряду с достоинством и самодостаточностью, несет в себе искренний интерес к другим людям, благожелательность, сострадание и любовь к ближнему, тяготение к соборному единению с людьми, осознание своей включенности в единство всего творения, от природы до человека, своей ответственности за себя, за всех и за всё и готовность к самоотдаче и самопожертвованию.
Сознание индивида, основанное на стремлении к обособлению, противопоставлению себя всем и всему, — сознание суженное, раздробленное, утратившее способность рассматривать мир в его целостности и склонное к «упрощенчеству». Лишь «успех» вызывает неподдельный, заискивающий интерес к личности, в основном же человеческие особи раздражающе скучны. Индивид скучен и самому себе, находиться наедине с собой без «развлекалок» окружающего мира для него — пытка, отношение к природе, миру, людям — сугубо потребительское, высшая форма единения — вынужденный, по интересам, коллективизм (вот и сбиваются индивиды во всевозможные союзы, ассоциации, объединения и клубы — в телефонном справочнике их сотни), лейтмотивом же жизни остается: «Лишь бы мне было хорошо, остальное — гори огнем!»
Свобода личности — внутренняя свобода от недостатков, зависимостей, грехов и страстей, главные барьеры — внутренние, основанные на нравственном законе и самодисциплине. Свобода индивида — вседозволенность и безответственность, ограниченные лишь внешними законами, контрактами и правилами окружающего мира, основной мотив — сладострастие. И самое главное, личность немыслима без стремления и любви к Истине, Богу, Единственному Незыблемому Ориентиру, Объединителю и Законодателю, Источнику сил, знания, гармонии и смысла, Победителю смерти и страха, Путеводителю по жизни в вечность. Индивид же, оторванный от Истины высшей, вольный самоутверждаться всяк на свой манер, вынужден в россыпи множества «истин», в хаосе сталкивающихся между собой на плоскости многополярного мира идей и мнений выстраивать собственную, удобную для себя систему ценностей. Со своими образцами для подражания, своими кумирами и божками, своими представлениями о силах, действующих в мире, своим собственным представлением о Боге или полном безбожии и, вследствие этого, самообожествлении.
И каков же итог? На что обречен индивид в мире искаженных и подмененных понятий? В мире, где под дружбой подразумевается далеко не духовная близость, основанная на бескорыстии и взаимных трудах самоотдачи, жертвенности и любви, а просто симпатия, сотрудничество, притом не круглосуточное (попробуйте позвонить «другу» среди ночи). Где понимание любви не поднимается выше чисто человеческой, чаще родственной, привязанности и взаимопомощи, а хуже того — чувственно-физиологических отношений. А окружающие люди автоматически делятся на чужих, родных и знакомых, знакомые — на хороших и не очень. Какое там братство. Разве что в годину великих испытаний, да среди отдельных категорий людей, связанных общей опасностью, необходимостью или бедой. И даже «ячейка общества» — семья — не «крепость», не «приют», не «храм», а скрытое или явное поле боя непримиримых индивидуальностей разного пола и возраста, вынужденное или осознанное сожительство разных людей, основанное на привычке, удобстве, необходимости и некоторой общности интересов. Понятия добра и зла затуманиваются, исчезают, подменяясь понятиями пользы и вреда, совершенно расплывчатыми и сугубо индивидуальными. Апофеоз которых — сияющая вершина, цель устремлений и мечтаний общечеловеческих — так называемое Счастье!
Все это усугубляется поразительной, неотвратимой способностью недостатков, грехов и страстей человеческих множиться и возрастать. Непостижимое для обыденного сознания превращение невинного младенца в существо с полным набором мыслимых и немыслимых недостатков и пороков, а порой — и в чудовище в человеческом обличье. И винит обыденное сознание (небезосновательно) в этом превращении окружающий мир (плохих друзей, дурную компанию, опасные связи). Но подмечает же и оно, что «дурное-то быстро прилипает». Почему? Для православного сознания здесь нет тайны: глубокая внутренняя поврежденность человека, его склонность ко греху и ко злу — следствие «греха первородного». Святые отцы и современные богословы исчерпывающе раскрыли всю глубину этого понятия, в контексте же нашего повествования невозможно не упомянуть и об этой обреченности человека, наделенного Богом свободной волей, и особенно человека современного, оторванного от Бога.
Множатся, причудливо переплетаясь, страсти в бедной душе человеческой, дробится сознание, путается разум, мятутся чувства в море всевозможной «информации», приводя к растерянности, напряженности, хронической враждебной сцепке с окружающим миром и людьми, невозможности разобраться в клубке понятий, призывов внешних и внутренних, идеек, мнений; одолевают проблемы бесконечные, заботы, сутолока, мелькают дни и годы, приближая небытие. Жизнь с ее суетой, усталостью и болью превращается в бессмыслицу, абсурд. Запланированное счастье отдаляется и меркнет, с годами обретая контуры чего-то уже промелькнувшего, но не осознанного в свое время.
Носитель личности — чело, обращенное в век, вечность (чело-век), — превращается в раздавленную жизнью аморфную субстанцию или машину по производству и потреблению «благ», незаметно сменившую богоподобный лик на лицо, потом на личину, и сросшуюся с ней. Глубинное одиночество и пустота, всевозможные страхи и комплексы, неумолимый бег времени, зыбкость человеческого существования, беззащитность, несмотря на «достижения цивилизации», перед стихиями, «случайностью», «роком», неодолимость болезней и смерти снова и снова подталкивают человека к себе подобным. Но попытки «контактов» — от мимолетного: «Привет, как дела» — приклеенная на западный манер голливудская улыбка — и пошел дальше — до всевозможных «близостей» и тусовок — оборачиваются для индивида такой же погоней за миражом, как погоня за эфемерным счастьем. И, соответственно, разочарованием и болью. И еще: как отмечено выше, идеалы неуничтожимы. Неуничтожим голос совести, голос Бога в измученной душе человеческой, вызывающий чувство вины за бессмысленно прожитую жизнь. Снова… боль!
Итак, круги обреченности, неизбежно приводящие к боли! И нередко — к жизненным катастрофам! Осознается ли это в полной мере? К чему подталкивает боль? Естественно — к обезболивающему. И тут всего два пути. Один — ответ на призыв Спасителя: Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас (Мф. 11, 28). Путь — горький сначала, требующий решимости, «тесный», потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их (Мф. 7,13-14). Путь, требующий непрерывных усилий и самопонуждения, самоконтроля, отказа от привычных жизненных установок. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф. 11, 12). Через осознание собственной греховной поврежденности, преодоление и исправление ее — с Божьей помощью: Я с вами во все дни до скончания века (Мф. 28, 20). Без нее невозможно пробуждение от греховного сна, тем более, непосилен сам путь, ибо без Меня не можете делать ничего (Ин. 15, 5). Но непременно — и своими трудами, ибо мы соработники у Бога (1 Кор. 3 ,9). Нелегкий путь, но у Бога не останется бессильным никакое слово (Лк. 1, 37); Найдете покой душам вашим (Мф. 11, 29); и познаете истину, и истина сделает вас свободными (Ин. 8, 32).
Но, увы, гордыня и сладострастие увлекают на более легкий и обольстительный путь. Тяга к удовольствию, наслаждению, забытью и самоодурманиванию становится главным интересом, потребностью и смыслом существования современного человека.
Оставим в стороне болезненные вопросы целенаправленного одурманивания извне одних людей в угоду экономическим и политическим интересам других. Все это известно издавна, разве что изменились масштабы и усовершенствовались методы — «прогресс» все-таки. Важно другое — современный человек вследствие многих «обреченностей» загнан в необходимость хотя бы временно уходить от изматывающей действительности, выключать или изменять сознание. А как раз пресловутый «кайф» и является состоянием измененного сознания, приносящим удовольствие, освобождение от страха, забот и проблем, полную удовлетворенность собой и жизнью, то есть «счастье».
Способов одурманивания — великое множество. От телевизионной дребедени: сериалов, игр, шоу, боевиков и «порнухи» до разнообразных «тусовок», пивных и рок-фестивалей, конкурсов, соревнований. От культивирования «раскрепощенности», легкомыслия, вседозволенности и лихорадочной погони за деньгами, престижем и развлечениями до алкоголя и наркотиков.
Весь фокус в том, что в любом виде одурманивания присутствует «кайф». Вот скрытая иногда основа, пружина, компонент, движущая сила, стержень (как ни назови) и причина притягательности, соблазнительности многих и многих, казалось бы, далеких от алкоголизма явлений. Нечего обманываться — большая часть занятий современного человека в той или иной степени замешана на «кайфе». От самых безобидных до самых «возвышенных» или безобразных.
И отупелая привязанность к телевизору, неважно—к мыльным сериалам, спортивным программам, ток-шоу, играм, фильмам или бесконечным «новостям», — привязанность если и не к кайфу, то к «кай-фецу». И управление автомобилем, да под музыку — еще какой «кайфец». А сама музыка?! От рока до душещипательных песен. Разве не источник кайфа? Достаточно взглянуть на публику или вспомнить свои чувства. Музыка… Танцы… С классикой, правда, сложнее — подальше от грешной земли, поближе к Небесным сферам, иные центры включаются, да и немалые труды душевные требуются для восприятия. Уж, конечно, благороднее, чем забойный рок, безобиднее, но все на тех же дрожжах замешано. Меломания.
А компьютер с его играми, Интернетом и виртуальным миром. Зависимость в чем-то похлеще алкогольной (да и существует уже понятие компьютерной зависимости). А игры вообще, и азартные в особенности. Не одной ведь жаждой выигрыша подогревается азарт. Кайф! А коллекционирование, собирание с его любовным поглаживанием и рассматриванием, тем более собирание богатств. Азарт приобретательства (достаточно потолкаться на ярмарках и рынках), азарт, чуть ли не пафос зарабатывания денег, правда, — не «микроденег», а денег «хороших» и «очень хороших». (О, это — отдельная тема.) Азарт и увлеченность вплоть до одержимости.
А какого рода удовольствие вызывают крепкий чай, кофе, аромат духов, для чего люди с наслаждением вдыхают табачный дым? Но, конечно, это — детские забавы по сравнению с алкоголем и наркотиками.
И еще — творческий подъем, вдохновение. Вот, уж, кайф так кайф… Впрочем, стоп! Здесь надо остановиться, затормозить, ибо близок водораздел, как и в классической музыке, пении, шедеврах живописи, водораздел, отделяющий кайф от благодати. Источники-то — разные, разные и последствия, хотя проявления во многом схожие. Недаром святые отцы называют диавола обезьяной Бога. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи (Ин. 8, 44). Так и с кайфом. Как бы ни были многообразны проявления и виды его, яркость, полнота, протяженность во времени, но суть-то — одна. Лукавый источник, и суть — лукавая, обманчивая. Но по плодам их узнаете их (Мф. 7, 16).
Плоды «кайфа» и благодати
Предвижу вопрос: «Кто ты, человече, что берешься сравнивать кайф с благодатью? И зачем? Ладно бы, препарировал кайф — об этом можешь разглагольствовать вволю, но что дает тебе право писать о благодати?» Вера моя, которая есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр. 11, 1), полная православная жизнь, встречи с благодатными людьми. К вере-то приходят не из-за «страха перед необъяснимыми явлениями природы или необразованности», как это вещали горе-пропагандисты в политиздатовских брошюрах. Бог Сам призывает, почему и дерзаю полагать, что и меня, многогрешного, и в прошлом атеиста, коснулась (в мою меру, конечно) оживляющая, укрепляющая и просвещающая Божественная благодать. И еще: без сравнения кайфа с благодатью не только не понять, как работает Программа Анонимных Алкоголиков, но, главное, не понять, куда исчезает, чем замещается безумная тяга алкоголика к спиртному, к кайфу.
Каковы же плоды кайфа и благодати? Есть ли что-то общее в проявлениях? Есть. И то и другое — обезболивающее, кайф — сильное, быстрое и доступное. Но, в отличие от благодати, не исцеляющее, но быстротечное и постоянно требующее увеличения. И кайф и благодать запоминаются. Теплотой, радостью, бесстрашием перед людьми и обстоятельствами; кайфу тоже присуще что-то похожее на ощущение душевного покоя и удовлетворенности, желание примириться с обидчиками, сделать хорошее, доброе, обнять мир, присуще нечто схожее с умилением, и уж тем более — стремление продлить благие ощущения. Действие благодати сродни легкому опьянению без вина. Недаром, когда сбылось обещание Спасителя Апостолам: Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый… изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит? А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина (Деян. 1, 8; 2, 12-13). Но благодать не «поймать» как кайф, вплеснув в себя стакан спиртного или уколовшись шприцом, понюхав, покурив.
Кайф застревает в памяти обжигающим блаженством, быстро убывает, а потом пропадает совсем. Попытки же вновь испытать его становятся все безуспешней и превращаются сначала в почти бесплодную погоню, а потом в кошмар и необходимость использовать те же средства, но уже не «в кайф», а чтобы выжить, забыться в чистом виде, впав в беспамятство и бесчувствие.
Благодать запоминается, к ней нельзя не стремиться; испытав, не должно сомневаться в получении ее дара, хотя прошение в молитве о ниспослании явного ее действия и порицается святыми отцами. Запоминается необыкновенной тишиной и миром в душе, усмирением страстей и плотских влечений, примиренностью с людьми и благожелательностью к ним. И самое главное. Если кайф оставляет опустошенность, мгновенное возвращение раздражения и вражды с людьми, то благодать душу наполняет и выливается в благодатное продолжение в мыслях и поступках. Благодать назидает, открывает глаза на свои несовершенства и грехи, приводит к сокрушению и стремлению исправиться, кайф — бесплоден и бездейственен как раз в этом.
Благодать — путеуказание к Богу, истинная одухотворенность, кайф — экзальтация, одухотворенность ложная, парение, рассеяние ума и бесплодная мечтательность. Кайф — обманчивое утешение гордыни и сладострастия, благодать — всесильная помощь Божья смирению: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (Иак. 4, 6).
Плоды погони за кайфом — пустота, тупики и катастрофы, в том числе алкоголизм и наркомания. Гибель физическая и духовная. Плоды Божественной благодати — преображение и спасение!
Из книги «Выход есть!» мирянина Александра.